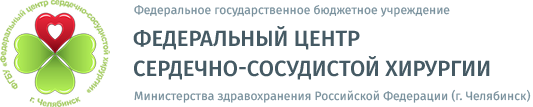
Г.О. Челябинский, г. Челябинск, пр-кт Героя России Родионова Е.Н., д.2
Операция по спасению: маленькие сердца - в руках анестезиологов

20 октября 2025
Сердце новорожденного – размером примерно с небольшую сливу. При врожденном пороке чтобы хирург мог начать операцию на нем, анестезиолог должен установить катетер и попасть в сосуд размером с грифель простого карандаша. Столько катетеров, сколько нужно – и два, и пять. При этом сделать так, чтобы от волнения и переживаний сердце у маленького пациента не выскочило в пятки. Анестезиолог первым «принимает» его в операционной и последним провожает после операции в реанимацию. В его руках в буквальном смысле – жизнь малыша. Порядка двадцати лет с этой задачей успешно справляется один из ведущих специалистов Южного Урала в области детской анестезиологии и реанимации, врач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Виталий Михайлович Фиглев. О прелестях и трудностях профессии разговор состоялся в канун профессионального праздника Дня анестезиолога-реаниматолога.
- Виталий Михайлович, даже у взрослых пациентов впечатления от вашей работы одинаковое – уснул, и всё. А на самом деле в чем заключается задача анестезиолога?
- Работа анестезиолога, на самом деле, начинается до операционной: накануне обязательный осмотр больного перед операцией. Посмотреть на него, ознакомиться с его историей болезни, какие есть хронические заболевания и прочее. Что касается детей, то собрать также минимальный акушерский анамнез, как протекала беременность, чтобы оценить тяжесть предстоящей операции, возможные риски. На следующий день утром больной подается в операционную. Там все достаточно стандартно: водный наркоз, интубация трахеи, установка катетеров различных - вены, артерии и прочее, всё зависит от вида операции и от тяжести состояния. Потом уже начинается хирургический этап. Если операция с искусственным кровообращением, то есть перфузионный период, когда полностью останавливаются сердце и легкие, а вместо них включается в работу аппарат искусственного кровообращения. Тогда выполняется защита миокарда и всего организма, особенно при операциях с гипотермией, когда требуется охладить тело полностью до 26 градусов, контроль всех жизненных показателей, поддержание их на должном уровне.
Когда основной этап подходит к концу, начинается подготовка к отключению аппарата искусственного кровообращения, согревание больного, если он был охлажден, восстановление сердечной деятельности, нормализация всех лабораторных показателей, начало искусственной вентиляции легких или ее возобновление. Процесс постепенный, не быстрый, чтобы не навредить лишней нагрузкой на организм. Потом происходит отключение искусственного кровообращения, запуск гемостаза. Нормализуем все параметры свертываемости. И уже по окончанию операции, когда и нас все устраивает, и хирурга, уже начинается пробуждение и возобновление сознания. Стараемся этот процесс не затягивать: чем раньше человек проснется после операции, тем лучше. Если есть показания, то проводим экстубацию больного прямо на операционном столе, переводим на самостоятельное дыхание и транспортируем в реанимацию.

- С кем сложнее работать: «на взрослых» пациентах или на детях?
Наверное, все-таки в плане технических особенностей с детьми будет посложнее. При весе меньше килограмма у новорожденного из-за крошечных размеров могут быть сложности с пункцией катеризации сосудов, с интубацией. Но с детьми лично мне интереснее!
- Почему?
Помню, когда еще работал санитаром общей реанимации, всегда заходил в детскую палату тоже - прибраться, помочь. И мне было любопытно и страшновато: такой маленький организм, как в нем все выправить и поставить на место, чтобы после операции этот кроха еще и поправлялся! Детская анестезиология и тогда, и сейчас считается отчасти привилегированной, особо никто не рвется ею заниматься ввиду сложности и ответственности. Мне тоже сначала было не по себе, но очень захватывало. Спасибо Владимиру Андреевичу Куватову*, что в кардиохирургию меня тогда отрядил. Высший пилотаж, конечно, - я согласился, даже нисколько не спорил! А там попал в надежные руки анестезиологов-реаниматологов Вячеслава Константиновича Черникова и Константина Павловича Безбородова, в плане грамотности, знаний, умений и опыта оба – безусловные авторитеты, вызывающие уважение, и поучиться у них чему-то мне очень хотелось, то, получается, судьба распорядилась так, и задержался, и до сих пор остаюсь в этой стезе, и никуда мне больше не хочется.
Патологий врожденных пороков сердца очень много, гораздо больше, чем у взрослых в кардиохирургии в целом, и надо разбираться в гемодинамике каждой. Соответственно огромный спектр и операций. Детская кардиохирургия – зачастую этапная. Знать, что делать, для чего и как, да еще с перспективой на будущее, чтобы ребенок потом не просто жил, но и рос, развивался, чтобы организм его подготовился к последующим операциям, когда это необходимо. Например, впервые ребенок попадает в наш Центр в периоде новорожденности, мы проводим операцию. Через пару-тройку лет он снова приходит – или уже абсолютно нормальный здоровый ребенок, или возвращается на следующую операцию, и каждый раз работаешь и понимаешь, когда видишь его, что не зря все это. Когда мы начинали развивать детскую кардиохирургию еще в областной больнице, даже наши мэтры удивлялись: «Почему вы радуетесь - у вас был ребенок «розовый», стал «синий», а вы все довольны?! - А так надо!»

- Как сделать так, чтобы ребенок не боялся операции?
Это абсолютно нормальная реакция: взрослые-то боятся, а дети просто не могут это контролировать, и только. Многое зависит от настроя родителей. До операции обязательно разговариваешь с ними, убеждаешь, чтобы вели себя спокойно. Стресс-то случается у ребенка: впервые в жизни, возможно, его забирают у матери, несут куда-то какие-то тётьки, какие-то дядьки им занимаются. Конечно, он боится! Поэтому до операции нужно, чтобы родители вели себя сдержанно, адекватно и не боялись, самое главное. А так - войти в доверие к ребенку, улыбаться и смотреть в глаза, вот и всё!
- Навещаете в реанимации потом своих пациентов?
Да, конечно, все наши пациенты после операции лежат в реанимации, и всегда в течение рабочего дня зайду, посмотрю, оценю. Даже если дежурю по взрослой реанимации, то все равно часто хожу в «детство», посмотреть, может что-то заметить свежим взглядом, подсказать хирургам или с реаниматологами обсудить тактику ведения. Да и просто – чтобы убедиться, как они там. Домашние звонки, опять же, никто не отменяет, мы это абсолютно нормально воспринимаем, не возбраняется это.
- Отсутствие личной жизни, постоянное нахождение фактически на работе, в собранном состоянии, насколько это раздражает?
Я рос в семье медиков, где всё так и было. Отсутствие отца дома — это не то, что норма, но ты к этому привыкаешь потихонечку и просто живешь с этим. Постоянные дежурства, какие-то экстренные операции, когда отец мог задерживаться до вечера, потому что надо оперировать тяжелого больного, и так далее. И когда сам идешь работать в медицину, отдаешь себе отчет, что лечить людей - это твоя первостепенная обязанность теперь, пожизненная. Если надо — значит, надо. Я люблю свою работу, считаю, что не ошибся в выборе, и сомнений никаких нет. Это самая лучшая работа на свете!
- В семье кроме папы еще были медики?
Бабушка Таисия Андреевна была пульмонологом, одно время даже заведовала терапией в областной больнице, всю свою жизнь там проработала. Отец Михаил Витальевич, хирург, больше 40 лет простоял у стола, там же в областной. Мама тоже всю жизнь была старшей операционной сестрой, поэтому вариантов выбора профессии особо не было! С конца 3-го – начала 4 курса пошел работать сам туда же сначала санитаром в общую реанимацию, а потом уже медбратом в кардиореанимацию под руководством Александра Викторовича Рыбалова*. До конца института и потом уже параллельно учился и работал в ординатуре - дежурил у него в отделении медбратом.

- Учиться в мединституте сложно было или нет?
И сложно, и позитивные моменты были. Студенческие годы, мне кажется, самое интересное, хорошее время и очень приятные воспоминания. У нас была дружная группа, практически от начала до конца – в одном составе. Мы до сих пор поддерживаем общение, хотя с окончания института прошло уже 20 лет! Вместе с Максимом Васенёвым* учились, теперь работаем, только он больше - реаниматолог, а я - анестезиолог.
- Детская хирургия не обходится без потерь, как справляетесь?
В любой области медицины потери больных всегда для врачей переживаются остро. Да, бывали случаи, что - до слез. Особенно, когда дети уже такие смышлёные, активные, приходят, казалось бы, своими ногами сюда, а тут... Тяжело переживать, но надо как-то научиться сживаться с этим, смиряться что ли. Конечно, мы обсуждаем, пытаемся понять, в чем, возможно, были неправы, если были неправы, или как могли бы этого избежать, если могли. В результате развития хирургии, анестезиологии и реанимации мы научились справляться со многими проблемами и пороками, удалось добиться одних из самых низких в стране показателей летальности. Думаю, что хирургам сложнее, чем нам. А что делать?! Есть такое слово «надо».

- Помните своего первого пациента?
Помню, меня отрядили к Александру Юрьевичу Попову на обучение, это наш мэтр коронарной анестезиологии, и первых двух-трех взрослых пациентов у меня не получалось заинтубировать абсолютно никак. Я жутко расстраивался!
- А кого помните из ребятишек?
Таких можно вспомнить немало! Был такой пациент Иван В. из Сатки, по-моему, поступил к нам экстренно с тотальным аномальным дренажом легочных вен. Мы его прооперировали, потом включили ЭКМО, и он его пережил. Это было лет 10 назад, если не больше. И как-то он приходил к нам снова, я его видел. Был совсем лялькой, а тут уже такой взрослый человек.
- Как вы относитесь к тому, что пациенты не знают и не помнят о вас?
Да, мы - такие, тихие пахари и бойцы невидимого фронта! Но в отделении врожденных и приобретенных пороков сердца у нас немножко по-другому: мы смотрим больных до операции, происходит общение с родителями, они запоминают нас. Потом уже, приходя на прием в поликлинику, обязательно окликнут. Но если забывают, ничего страшного. Главное, чтобы все было хорошо!
- Как проводите вот хоть какое-то свободное время? Что помогает восстановиться?
Чуть-чуть активный образ жизни, ничего экстремального - прогулки, зимой - сноуборд, в теплое время года - велосипеды. А вообще - люблю на диване полежать перед телевизором! Очень помогает иногда просто выспаться, ничего сложного, и тогда снова все хорошо.
_______________
*Владимир Андреевич Куватов, заместитель главного врача по медицинской работе ФЦССХ МЗ РФ (Челябинск);
*Александр Викторович Рыбалов (1941-2022), Заслуженный врач РФ, врач-реаниматолог, заведовал отделением кардиореанимации в ЧОКБ;
*Максим Викторович Васенев, врач анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории ФЦССХ МЗ РФ (Челябинск).
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.


