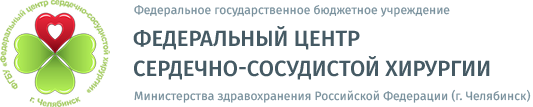
Г.О. Челябинский, г. Челябинск, пр-кт Героя России Родионова Е.Н., д.2
Сергей Пискунов, один из основателей рентгенхирургии на Южном Урале, отмечает свой юбилей

22 сентября 2022
Сегодня свой 60-й день рождения отмечает заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения ФЦССХ МЗ РФ (Челябинск), один из основателей рентгенхирургии на Южном Урале Сергей Анатольевич Пискунов. Коллектив Центра поздравляет его и желает здоровья, успехов и процветания.
В предверии знаменательной даты о секретах и достижениях современной рентгенхирургии, ее истории и своем жизненном пути Сергей Анатольевич беседовал с журналистами.
- Сергей Анатольевич, что же такое рентгенхирургические эндоваскулярные методы диагностики и лечения в сердечно-сосудистой хирургии на самом деле? Для чего они применяются и насколько эффективны?
Все современные технологии связаны с развитием науки и техники, и в этом наблюдается огромный прогресс. Когда я начинал работать, многие инструменты делал сам на рабочем месте. Сейчас уже никакой нужды в этом нет. Всё миниатюризировалось, стало гораздо гибче, проходимее, пролазучее. Благодаря этому и эндоскопия развивается колоссальными темпами (лапароскопические вмешательства), и наш раздел – эндоваскулярные (внутрисосудистые вмешательства). Толчок к их возникновению и развитию дали, безусловно, кардиохирурги. Чтобы обойти суженные места в сердечных сосудах, им потребовалась рентгеновская киносъемка: знать, куда прокладывать обходные пути и где пришивать шунты, восстанавливая нормальное кровоснабжение сердца. Так для проведения съемки рентгеновского изображения появилась ангиография – 25 кадров в секунду. Это очень сложные аппараты с рентгеновскими трубками совершенно другого свойства, чем привычные в том же флюорографе в поликлинике. Они позволяли разглядеть все анатомические особенности, и кардиохирургам стало наглядно видно, что можно сделать и как помочь таким пациентам. Постепенно затем появился инструмент, который позволяет не просто показать хирургам красивую картинку, но еще и воздействовать на эти суженные места, и вполне успешно. Сначала это были только прямые участки сосудов и большого диаметра, потом всё меньшего и уже с раздвоениями. Теперь можно добраться и до самого неприступного во всех смыслах места – начало левой сердечной артерии, - очень важное и уязвимое, к сожалению. Его пытались «трогать», но получали очень плохие результаты. Сейчас добраться туда и починить – рутинное дело.

В целом, наши методы позволяют избежать тот большой этап доступа, как у кардиохирургов. Чтобы добраться до нужного места, им нужно разрезать кожу, распилить грудину, добраться до сердца – всё это большая травма, кровопотеря. А рентгенхирурги работают непосредственно в точке проблемы: расширяем суженное место (стенозы), сужаем, не даем лопнуть слишком расширенному (аневризмы), штопаем лишние дырки (фистулы) и так далее. Если травмируем, то самый минимальный участок кожи и сосуда, чтобы ввести инструментарий в организм. Естественно, что после этого человеку не требуется никакая многонедельная реабилитация, он на следующий же день бодр и весел. Не раз встречал пациентов, которые по лестнице бегали мне навстречу с первого по пятый этаж. «Что вы творите, возмущаюсь. – Я проверяю, как вы сработали, как меня полечили, смеются». Так экстремально себя вести мы не рекомендуем, конечно, нагрузки в послеоперационный период должны быть щадящими. Всё должно прижиться в месте вторжения, прирасти. Но в целом человек не выпадает из привычного образа жизни, у него ничего не болит – никаких разрезов и швов, и вдруг понимает, что может глубоко вдохнуть и не испытывать боли и страха за грудиной, зайти, или даже забежать, на горку или на свой этаж в доме по той же лестнице без лифта и без одышки. И тогда только понимает, в чем была разница.
- Если так дело и дальше пойдет, не кажется ли вам, что «большая хирургия» скоро будет и не нужна. Зачем вскрывать и разрезать, когда можно до всего добраться изнутри?
Всё меняется стремительно, и «большая», как вы говорите, кардиохирургия тоже. Она тоже миниатюризируется, становится всё более технологичной. Раньше не представлялось, что при накладывании шунта можно использовать микрохирургическую технику. Забирать материал для шунтов эндоскопически – уже обыденность. Сейчас технологии помогают менять надежно два клапана, третий – в стадии экспериментальных разработок. Чаще всего протезирование аортального клапана производится в эндоваскулярном варианте: настолько же хорошие отдалённые результаты, без лишних рисков, и всех устраивает – и пациентов, и страховые компании, и врачей. Но как таковая кардиохирургия никуда не денется: есть ситуации, когда для больного предпочтительнее механический протез, который можно вшить только открытым способом. Так текущий прогноз лучше, и в перспективе будет меньше повторных операций – каждые не 5-7 лет, а через 15-20. Разница же есть? Поэтому большая хирургия никуда не денется, но она тоже будет развиваться. В некоторых разделах замена может и произойдет, но не во всем.
- Ваш пример опровергает расхожее убеждение, что все прорывы совершаются на западе. Недавно челябинские СМИ писали о девочке, от которой отказались все клиники, а вы взялись и успешно справились. Потому что знаете как, и даже запатентовали этот вид лечения. В чем суть метода?
Он называется «ретроградное закрытие парапротезных фистул без создания артериовенозной петли». Другими словами - опасное отверстие рядом с протезом митрального клапана закрывается через прокол артерии с продвижением инструмента против тока крови. При этом не производится никаких дополнительных проколов самого сердца. Такие вмешательства проводятся нами даже в случаях расположения на пути инструментов протеза аортального клапана. Суть проблемы в том, что примерно в 3-5% случаев рядом с пришитым клапаном (протезом) возникают отверстия (фистулы) по самым разным и вполне объективным причинам: слабость тканей самого пациента, какие-то проблемы с шовным материалом, повторность операций в одном и том же месте и так далее. Далеко не всегда это недочеты работы хирурга. Маленькие дырочки, которые особо не влияют на дальнейшую деятельность клапана и сердца, возникают еще чаще – в каждом четвертом случае. Но наша задача – выпустить из стен клиники человека здоровым, по крайней мере, не настолько больным, каким он пришел к нам. В случае с возникновением ненужных отверстий рядом с аортальным клапаном закрыть такую проблему технически под силу почти любому специалисту с хорошим опытом эндваскулярного лечения врождённых пороков сердца, а вот с митральным – гораздо сложнее. Он расположен между левым желудочком и левым предсердием, добраться до него труднее – неудобно для всех известных методик. Поэтому толчком к появлению метода послужили кардиохирурги. Восемь лет назад они попросили меня найти свой способ закрытия парапротезных фистул. До этого коллеги шли двумя другими путями: требовалось или прокалывать сердце со стороны верхушки, или межпредсердную перегородку, что несёт в себе очень серьёзный риск.
Я нашел способ, как находить и закрывать эти отверстия без всяких дополнительных уколов, травм и рисков. Единственная точка доступа в моем случае – это артерия (в ноге или руке), через которое выполняются все этапы манипуляции: поиск, подбор нужного инструмента и полное закрытие этого не только лишнего, но и вредного отверстия, которое приводит к перегрузкам и необратимым изменениям сердечной мышцы: к нарушению способности сердца нормально сокращаться, расширению сердечных полостей – и дальше, только пересадка этого органа может помочь пациенту.
- Сколько пациентов вы уже прооперировали таким способом?
Пациентов около 60, а непосредственно закрытых отверстий – 69. Иногда у одного пациента закрывали и не по одному. Семь было таких же сложных, как в том случае, о котором вы упоминаете, когда фистула возникла при двух протезированных клапанах на митральном. Для мировой статистики это очень хороший показатель (в среднем там выполняют полтора (!) таких вмешательства в год, а мы – от 7 до 12), а для России – просто рекордный. Раньше других наши результаты оценили коллеги из Екатеринбурга: они поняли, что мы это делаем хорошо и безопасно. Теперь отправляют к нам своих пациентов, еще - и врачи от Хабаровска до Самары и Калининграда. Даже московские академики мне присылают своих пациентов. Ну и потом, постоянно встречаемся на конгрессах, общаемся, ездим друг к другу в гости обмениваться опытом и знаем, что и как у кого делается. Всё – на пользу пациентам. Регулярно печатаю статьи, ни одной профильной конференции не обходиться без моего доклада даже и без моего ведома, приходиться порой за полчаса впрыгивать, было и такое. Стараюсь доказать, что это реально: надо просто делать, и чем больше, тем успешнее будет. Научу всех, кто захочет.
- Есть желание что-то еще изобретать, открывать? Может быть, уже что-то в планах?
Какие-то новые открытия будут рождаться от совместной работы с коллегами, буду только рад. Сообща достигать высоких результатов гораздо проще и эффективнее. Вот у той же девочки, про которую мы недавно рассказывали, были очень недостоверные данные по исследованиям. Может быть, отчасти поэтому от нее отказались в других клиниках. В таких больших разделах, как межпредсердные и межжелудочковые перегородки, мы работаем в паре с нашими специалистами функциональной диагностики, узи-специалистами. Они видят результаты нашей работы и потом корригируют те показания, которые были при исследовании, с теми окончательными данными, которые получили кардиохирурги, сердечно-сосудистые и мы, рентгенхирурги, при проведении вмешательства. Такой тандем дает потрясающий результат: никто так точно не может найти эти фистулы, как они, и это огромное подспорье и нам, хирургам. Можно же плюс-минус и лапоть намерить, и в операционной потом столкнуться с тяжёлыми последствиями. А в нашей работе два-три миллиметра имеют очень большое значение. Ловить улетевший окклюдер довольно хлопотно. Поэтому и отделение называется не только рентгенэндоваскулярного лечения, но и диагностики. Всем Центром, всем коллективом мы формируем правильный подход к лечению больных.

- Если значимость научно-технического прогресса так велика, чем оснащены и что используете сейчас?
У нас есть всё необходимое: ангиографические комплексы, полное программное обеспечение, две операционные, упакованные по последнему слову техники. Мы имеем великолепный одноразовый инструментарий, очень достойного уровня. Даже в эти времена, да и во многих больницах – когда приезжаю, обязательно смотрю на полки, чем работают. Колоссальные деньги вкладываются в разработки, в доказательство безопасности выпускаемого инструментария, на многолетний контроль за результатами его применения, которые со временем окупаются, несомненно, иначе не брались бы.
А мы начинали просто с диагностики: вводили вещество, которое под рентгеновскими лучами остается непрозрачным, и картина протекания всех этих растворов по сосудам снималась на рентгеновский аппарат. По средам была генеральная уборка, операций не было, и мы садилась - скальпель, спиртовка, дырокол, и сами формировали кончик трубочки (катетера), раструб для гайки. У нас были бухты рентгенконтрастной трубки разного диаметра. Мы её резали на нужную длину, собирали в комплект с краником. Весь мир этим занимался довольно продолжительное время: так и создавался наш первый инструментарий.
- Откуда в вас столько инженерного мышления? Ведь ваша сфера деятельности требует не только медицинских знаний, но и технических навыков.
Тут все очень просто: мама – металловед, папа был специалистом по нагревательным печам, преподавал, был доцентом на кафедре теплоэнергетики в ЧПИ, при этом постоянно дома что-то творил руками, причем очень высокого класса. У нас моторная лодка самодельная была и швертбот, и виндсёрфинг, и мы в этом во всем участвовали с братом, были знакомы с металлами. Знали, что титан сверлить на больших оборотах нельзя, так что по этой части у нас был полный ажур. А в медицину нас подвигло такое житейское наблюдение, что там мало людей, которые разбираются в технологии работы руками. Примерно год дома шли дискуссии, куда пойти, и они меня убедили, что в медицине катастрофически мало людей, которые хоть что-то понимают в технике. И мы туда с братом пошли, и пригодились, я считаю. Тут все логично.
- Из физики известно, что рентгеновские лучи не так безобидны. Как соблюдаете меры безопасности? Они нужны самим рентгенхирургам?
В медицине осталось всего две категории специалистов, которые, действительно, всё еще получают довольно ощутимую дозу облучения, работая в сфере ионизирующего излучения – мы и аритмологи. Обычная рентгенология уже не сталкивается с этим. После появления фиброскопов желудки тоже с контрастным веществом уже не смотрят, это экзотика какая-то. А мы – самые облучаемые специалисты, и чтобы этому противостоять, есть много способов, и будущих специалистов учат им с первых же занятий. Чем меньше работаешь и чем дальше стоишь от источника излучения, тем меньше облучаешься. Это называется защита временем и защита расстоянием. Есть и спецодежда. Часть из нее висит на самом аппарате – специальные фартуки, которые очень большую часть излучения срезают. Дозиметром это очень легко определяется: приподнимаем фартук – он пищит, опускаем – молчит, очень наглядно. В индивидуальной защите мы перешли на раздельные фартуки: отдельно юбка и жилет, чтобы соблюдался баланс веса. Это гораздо легче, чем целый день носить на плечах в зависимости от размера одежды – 7-10 килограммов свинца. Но гораздо хуже не вес, а то, что это совершенно не дышит, и с этим не справится. Стыдно сказать, но иногда после операции, особенно долгой, сложной, многочасовой, приходится нижнее белье сушить на батарее.
- Тогда почему, несмотря на все сложности и трудности, выбрали именно эту специальность и занялись рентгенхирургией?
Очень интересная постановка вопроса! Начну с того, что совершенно об этом не жалею. А, во-вторых, как это ни странно прозвучит, я отличался очень плохой общительностью в районе где-то 20-ти своих лет. В общении с пациентами у меня было какое-то напряжение тогда, и совершенно спокойно я ушел в рентгенологию: смотришь снимок, изучаешь историю болезни, анализы, и с пациентом почти не общаешься. Выдать барий, проследить, чтобы был выпит и куда потом потек, как размазался, посмотреть, описать, и всё. Потом в областной больнице появилась вакансия специалиста по ангиографическим исследованиям, и мы переехали из Карабаша в Челябинск вместе с женой. Поскольку мой брат там достаточно давно обосновался, то он меня туда и сосватал – уговорил, литературой снабдил, книжки подходящие надавал. Меня это увлекло и захватило. Сразу поехал на специализацию на два месяца в Москву. Технологии стали интенсивно развиваться, диапазон методик и возможностей стал шире, и с пациентами стало легче общаться.
- Сергей Анатольевич, а как складывается ваш рабочий день? Рентгенхирурги тоже рано встают?
Надеюсь, сильно от других людей, которые в медицине, не отличаемся, приходим вместе с кардиохирургами, которые оперируют традиционными способами. Я прихожу в семь -полвосьмого, ничего особенного. Посмотрел план, если что-то добавилось, то корректирую, а так – особой нужны нет торопиться или где-то прохлаждаться. Очень много позиций в нашем деле связано с тем, что медицина всё-таки не совсем наука. И запланировать, как на заводе выпуск какой-то детали, увы, при всем желании не получится. Больной на столе в восемь часов. Но несмотря на наличие плана и полного обследования, он может преподнести сюрпризы. Да и появиться вне плана пациент может запросто!

- Ваши дочери пошли в медицину тоже из-за вас?
Никаких особых усилий с нашей стороны мы с женой не прилагали, всё было абсолютно органично. Наверно, им стало это интересно. Когда меня вызывали по дежурству в областную больницу, и время суток позволяло, то старшая дочь с удовольствием ездила со мной, чем могла - помогала. Утром выходим из подъезда, а бабушки на лавочке уже в курсе, спрашивают – что, папа опять на работу с собой таскал?!
Три года она проработала тоже рентгенхирургом, но это надо быть очень крепкой женщиной. И таких много в нашем деле, процентов 20%, и они очень успешны. Но надо иметь скелет крепкий, мышечный корсет, а ей было тяжело. Теперь стала специалистом по КТ, и очень хорошим. С удовольствием консультируюсь у нее по поводу больных.
- Говорите дома о работе или это табу?
Обязательно! Это очень интересно, порой комично. Делимся наблюдениями за день, это неотъемлемая часть жизни, которая не мешает, а помогает. Из веселого: жена – терапевт и прекрасно знает, чем я занимаюсь. И тем не менее. Как-то задержался на работе часов до восьми. Спрашивает, почему. Говорю – две реканализации. А она переспрашивает: «Какие двери?! Какая канализация?!» А речь шла о восстановлении проходимости сердечных артерий, вроде бы человек в теме, но получилось смешно, как будто я застрял в больнице по хозяйственной части.
- Что вам придает сил, наполняет энергией? Как отдыхаете?
Многое: дома есть инвентарь всех видов – и ролики, и ракетки для бадминтона, и горные лыжи, и две собаки для прогулок в близлежащем парке, так что с этим всё в порядке. Всё используется активно, моя задача – только поддерживать в рабочем состоянии.
- Что посоветуете, чтобы сохранять здоровье сердца как можно дольше, особенно в ковидные времена?
Вся система профилактики и контроля сейчас очень хорошо отработана. Тех пациентов, которые соблюдают рекомендации по питанию и диете, по контролю и поддержанию стабильного артериального давления, следят за уровнем холестерина, - все больше становится. У них состояние здоровья сердца сохраняется на долгие годы вполне рабочим, без ухудшений и кризисных ситуаций. А бывает и с точностью до наоборот, и это удручает, как своими руками человек сокращает время своей жизни. Рекомендации все известны и банальны – здоровый образ жизни, соблюдение режима работы и отдыха. Не на диване поваляться, а найти более полезный способ расслабиться и переключиться. И отказаться от вредных привычек.
В целом качественная беседа врача с пациентом приводит к тому, что 30% после неё бросают курить – ни тебе кодирований, ни пластырей, ни таблеток. Очень эффективно. Убеждаюсь сам, потому что повторные больные приходят и с радостью сообщают, что бросили дымить.
- А себе что бы вы пожелали?
Меня всё устраивает! (улыбается).
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.



